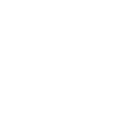Умею — не умею.… Да не знаю я.
Хотя, с одной стороны, вроде и умею. Как буковку к буковке прикладывать, я ведь раненько сообразил — пяти лет от роду или даже чуть раньше. Факт этот можно утверждать вполне уверенно, поскольку имеются тому осязаемые, я бы даже сказал — документальные, подтверждения. Тут всё дело в том, что свой шестой день рождения мне довелось встречать в больничной палате. А в больнице, по такому торжественному случаю, мне полагалась дополнительная передача (читай: подарок).
А в подарочном свёртке, поверх яблок и карамелек, лежала поздравительная открытка, подписанная батиной рукой: «Дорогой наш сынок…». Ну, и так далее. Текст сей я, на манер церковного дьячка, торжественно прогнусавил на всю палату, чем вызвал у однопалатников, у соболезников и даже у нянечки подозрение в откровенном, ничем не прикрытом лицемерии – во вранье, проще говоря. Ну, да я их тут же и переубедил — отправил у них на глазах ответную «телеграмму» своим родителям. На обратной стороне какого-то медицинского бланка, пыхтя и шмыгая носом, муслякая чернильный «химический» карандаш (входила в те времена в обиход такая штуковина). Начертал я вполне распознаваемые прописные буквы:
«Дорогие мои папа, мама, сестренка…».
Ну, и так далее по тексту. В конце — дата, подпись, как и полагается в телеграмме.
Позже, два этих «документа» перекочевали в «семейный архив» — легли между страниц альбома со старыми семейными фотографиями, где я и обнаружил их много лет спустя, будучи уже зрелым, несостоявшимся, но устоявшим в чёрное лихолетье, человеком.
Справедливости ради надо сказать: в том, что я рано научился читать, нет никакой моей заслуги. Виновата во всём наша коммунальная квартира. Может показаться странным, но у меня о нашей «коммуналке» остались самые теплые воспоминания. Достаточно сказать, что живших за стеной дядю Ваню и тётю Машу Литовкиных я всерьёз считал своими родными дядей и тётей. От них можно было получить и вполне заслуженный подзатыльник, и первый, с пылу с жару, кусок пирога, а то и пряник.
Их сын Петька, само собой, приходился мне почти что братом. В наших с ним потасовках я всегда терпел позорное поражение, в силу того обстоятельства, что был Петька старше меня на целых три года. Зато во дворе я всегда чувствовал себя под его надёжной защитой. Во дворе и его окрестностях никто даже и думать не смел, чтобы меня хоть пальцем тронуть.
Но однажды дружба наша начала рушиться — Петька пошёл в школу. Важный такой стал. Ему теперь, видите ли, не до меня стало — уроков поназадавали выше головы. Благо, священнодействовал он над своими уроками на кухне, и я почти беспрепятственно мог рассматривать букварь, листать Петькины тетрадки.
Тетрадки Петруха аккуратно складывал в какую-то картонную обложку с завязочками. На картонке, как и в букваре, тоже были буковки — эти таинственные знаки какой-то заоблачной, волшебной мудрости. Была в этих знаках какая-то недосягаемость. Чувствовал я, что мне никогда не осилить эту премудрость.
И всё-таки настал тот великий день, когда картонка приоткрыла свою тайну. Написанные на ней буковки ни с того ни с сего взяли да и связались в осмысленное слово. Я даже не сразу сообразил, что произошло. Глянул на них ещё раз, потом ещё — и каждый раз буковки связывались в одно и то же слово. Вот тут-то я и заблажил, заголосил от избытка переполнявших меня чувств:
«Папка! Папка!».
— Ну, что ещё? — батя возгласы мои на свой счёт принял.
А я уже совал ему картонку, тыча пальцем в эти самые распрекрасные буквы: «Папка!».
— О, как… — сказал отец и написал что-то на полях газеты, — а это словцо осилишь?
Собственно, слов было два, а между ними зачем-то ещё и палочка какая-то. Буковок было много, но сопротивлялись они не очень долго. «Сено — солома» — вот что батя написал. Он ласково толкнул меня ладонью в лоб и сказал:
«Голова…, весь в отца растёшь, парень».
Видно было, что он доволен.
Больше всех событию этому радовалась мама. Светлой памяти, матушка моя, будучи неграмотной, пуще всего боялась, что дети её могут остаться неучами и до конца дней своих будут волочить подёнщину. Чего-чего, а подённой каши нахлебалась она сполна, будучи «западэнкой», то есть урождённой в Западной Украине — и детство, и юность её прошли за пределами «нерушимого» Союза, на беспросветной той подёнщине.
Мать с отцом были довольны — я же на какое-то время получил индульгенцию на все свои проказы. Да мне уже и не до шалостей было. Едва открыв утром глаза, я искал, что бы такое прочитать. Для чтения годилось всё: листки отрывного календаря, нарезанная газета, снятая с крючка в туалете, басни Михалкова, «Капитал» с портретом Деда Мороза на обложке, правда, без шубы и колпака.
А потом настал день, навсегда запечатлевшийся в моей памяти. Нагнал на меня жути кучерявый дядька, у которого борода росла на щеках, а подбородок оставался абсолютно «босым». Имя его я без особого труда прочитал под портретом: «А.С. Пушкин». Напугал он меня так, что я по первости напрочь отказывался спать один и настырно лез к матери под тёплый бок. Рассудите сами — это же надо такое написать:
«Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца».
Это вам не Баба-Яга какая-нибудь. Это — утопленник! Настоящий!
Эх, золотое это было время, когда я находился в счастливом заблуждении, думая, что всё, однажды начертанное на бумаге, есть истина в последней инстанции, способная материализоваться в любую минуту. Пройдёт ещё много лет, прежде чем до меня дойдёт смысл слов про то, что бумага всё стерпит. Она же белая и за чужие грехи краснеть не собирается. Но я всегда памятую и про то, что рукописи не горят. Они живут своей жизнью, в своих пространствах. И жизнь их похожа на жизнь людей — со своими грехопадениями и с неуёмным устремлением к небесным высотам совершенства.
Но все это произойдёт гораздо позже. А пока я изо дня в день возрастал в своём читательстве и вконец уверился в том, что читать я умею.
И вот тут-то и произошло событие, не оставившее от моей уверенности и следа.
Событие это связано с появлением в нашем коммунальном ковчеге нового обитателя. В тот вечер квартира наша на часок погрузилась во тьму. Единственным источником света стал фильмоскоп, проектирующий кадры диафильма прямо на побелённую коридорную стену. И тут скрипнула, никогда не запиравшаяся, входная дверь, впустив с лестничной площадки в прихожую косой луч света, который тут же закрыла чья-то громадная тень.
Тень постояла в замешательстве секунду-другую и пророкотала низким, хорошо поставленным голосом:
— Здравствуйте, люди добрые. Литовкины здесь ли проживают?
Тётю Машу будто кто током ужалил. Сначала с грохотом упала на пол её табуретка, потом метнулась в прихожую тёти Машина тень, тут же растворилась в непроглядности этого монумента и завыла дурным голосом. Сквозь вой можно было угадать слова:
«Братик…. Родненький.… Вернулся…».
Добродушно рокочущий бас пытался ее успокоить.
Сразу же поднялся небольшой переполох. В просторном коридоре вдруг стало тесно. В темноте задвигались стулья, табуретки, грохнула об пол какая-то склянка, кто-то кому-то наступил на ногу, всем надо было в прихожую. Наконец зажёгся свет. Началась церемония целований, объятий, рукопожатий, радостных возгласов. Потом гость стал со всеми знакомиться. Дошла очередь и до меня. Улыбаясь, великан глядел на меня так, будто он все эти долгие годы только и делал, что бродил по белу свету и разыскивал этого самого распрекрасного, самого разумного, в общем, самого-самого мальчугана, и вот он его нашел. Гость осторожно положил свою громадную ладонь мне на плечо и сказал: «А я — дядя Боря».
— И я тоже — Боря.
От этой новости гигант прямо засветился радостью. Подхватил меня на руки, поднял под самый потолок и затрубил:
— Да мы с тобой тёзки! Ну, брат, и повезло же мне!
Борис Оболдин