Если три тысячи лет назад людям было сложно обнаружить своё невежество, то пятьдесят лет назад им сложно было признаться, что они всё ещё невежественны. После Второй мировой войны это стало ясно, как день. Величие идеалистической философии пошатнулось. Как же так могло случиться, что одни философы больше не пишут богословские трактаты, как Августин, не решают математические задачи, как Декарт, но пишут романы и называют философию искусством мысли, а другие философы читают лекции, зарываются в книги и возводят вокруг университетского дискурса монастырскую стену, чтобы никакая человеческая мелочность не мешала развиваться науке философии?
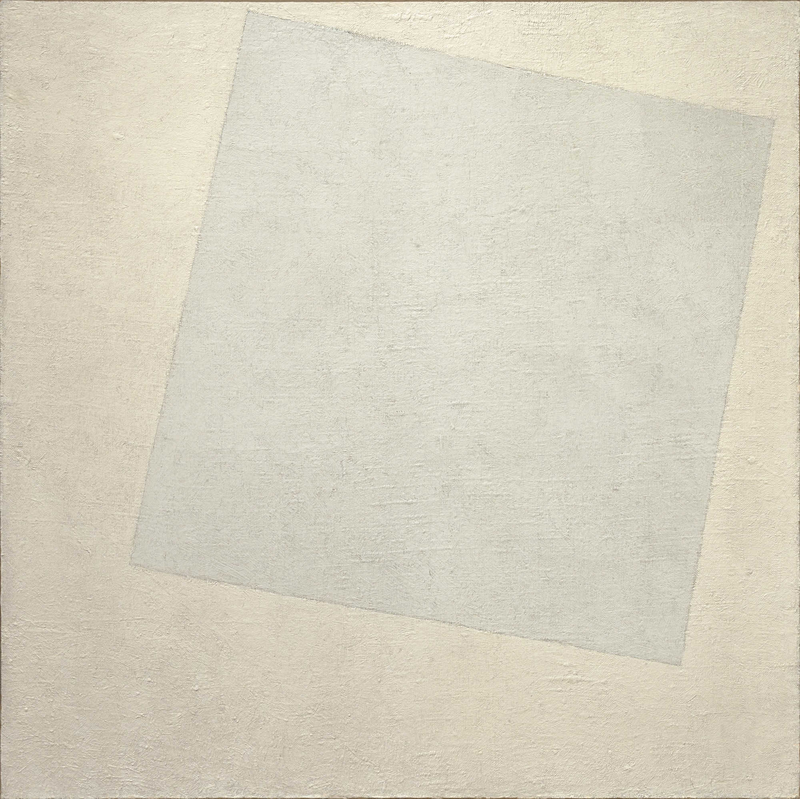
«Белое на белом» Казимира Малевича
Из хаоса энциклопедической неразберихи шестнадцатого века, мы пришли к строгости, свойственной наукам и искусствам века девятнадцатого. И я не могу снова обойтись без культуры — нашего полоумного, не знающего рефлексии ребенка, которому в двадцатом веке предстояло стать самому себе психотерапевтом. Хрупкий мыльный пузырь идеализма лопнул в жадных руках капиталистов; научный материализм Конта, смешанный с диалектикой Гегеля, полз по миру, прикинувшись коммунистической идеологией, и снежный ком противоречий становился всё больше и больше. Отчаяние тяготело над всеми областями знания, в том числе над исследованиями прекрасного.
Абстракция
Казалось, что не осталось такого игольного ушка, куда не протиснулся бы взгляд художника, такого оглушающего удара грома, который не сумел бы повторить оркестр, наконец, такого материала, что никогда не попадал в руки скульптору. Но мыслители нашли утерянную деталь, которой не хватало искусству, чтобы собрать вечный двигатель из подручных средств творца. Это была абстракция — дитя тайного романа идеалистической философии и творческого формализма. Эта связь, в некотором смысле, имеет даже мистический ореол. Надо быть юродивым, чтобы заказать себе гроб в форме супрематического креста или принести писсуар в качестве экспоната для выставки!
Если слишком много работать, сегодня говорят, можно «выгореть». Готово ли было общество к таким провокациям искусства? Да, они выводили людей из плена декаданса, отвлекали их от мучительных мыслей, от надоевших образов, вертевшихся в голове и перед глазами. Малевич. Чёрный квадрат. Тысяча девятьсот пятнадцатый год. Дюшан. Фонтан. Тысяча девятьсот семнадцатый. Так хорошая долгая прогулка в компании добродушного сангвиника выводит разочарованного человека из глубокого уныния. Что же это? Именно такой вопрос возникает в первую очередь при виде супрематического экспоната или реди-мейда.
Когда мы смотрим на работы Караваджо, мы спрашиваем, что имел в виду художник, какой миф иллюстрирует картина, кто на ней и так далее. Случалось такое в девятнадцатом веке, когда у искусства не было ответа, считать ли какую-то «мазню» искусством. Кубизм, импрессионизм. Критики спорили, художники умирали в нищете, как Маркс. Они умирали сразу семьями. Но не было еще такой «мазни», которая ничего не значила, к которой нельзя было придраться за то, что она некрасива.
Художник мысли Хайдеггер
В прошлый раз у нас в гостях были Бергсон и Гуссерль. Они хотели поставить под сомнение не что иное, как смыслы. Это была новая ступень рефлексии, да. Но Хайдеггер был ещё радикальнее. Он заставил усомниться в том, что был смысл во всей предшествующей философии. Может, после Парменида мы не туда свернули, поэтому попали в лапы расколотого на истину и ложь существования? Закабаленные бытом, вынужденные воевать с собственными подручными средствами, мы отвернулись от самой сути, от вопроса: «Что значит “быть”?» Хайдеггер называл нашу собственную, конечную жизнь присутствием (dasein) и дал нам свободу выбирать, из каких звеньев будет состоять наша жизнь, как цепь утраченных возможностей.
Его фундаментальная онтология, несмотря на радикальность посыла, строится по весьма идеалистическому критерию: бытие, или связка «есть» в языке, гораздо важнее, чем сущее, или все, к чему слово «есть» применяется. Язык — дом нашего бытия. В этом доме мы живём и именно дом помогает нам узнавать, кто мы и откуда взялись. Хайдеггер решил не идти проторенными дорогами. Если Декарт хотел своим методом показать, как выбраться из леса мыслителю, совсем потерявшемуся, уже не знающему, где восток, а где запад, то Хайдеггер предложил читателям специально заблудиться в лесу, чтобы потерять ориентиры, к которым они привыкли. Почти такую же авантюру предпринимал Гуссерль (см. предыдущую статью), только Хайдеггер не делил мир на явления и вещи в себе, он делил мир на онтологическое (бытийное) и онтическое. К онтике он относил историю, человеческий быт, труд, здравый смысл. А к онтологическому — всё, что связывает с бытием, когда мы задаем тот самый правильный вопрос. Так что Хайдеггер был одним из непревзойдённых мастеров хитрого философского языка, замысловатых метафор, позволяющих смазать противоречия, бросающиеся в глаза любому обладателю логического строя ума. Его сочинения похожи на работы Поллока.

Мартин Хайдеггер
Можем ли мы надеяться на то, что наша короткая жизнь будет иметь смысл? Ведь Ницше сказал, что жизнь слабого человека — это мираж, обречённый исчезнуть бесследно. И смерть бога у Ницше Хайдеггер интерпретирует, как кризис власти человека над собой. Человек убивает бога, и у него остается пустота внутри, дыра, размером с бога, которую нужно чем-то закрыть, чтобы конструкция не развалилась. Но сущность человека уже была обречена. Двадцатый век принес не только безнадежность в познании и спасении, но и просвещенческую идею о том, что человеку еще предстоит себя построить, собрать. Психологически, экзистенциально — как сможет.
Иллюзия жизни
Победившая феноменологию психология, во главе которой встал Фрейд, парализовала мыслителей своим открытием бессознательного. Личность перестала ассоциироваться с душой, научность в психологии победила. И точку в этом травматичном разрыве поставил Фрейд. Его циничная концепция человека ранила современность, но её прямолинейность оказала неплохое сопротивление религии и полностью солидаризировалась с состоянием науки того времени. Вот, даже «субъект» — такое философское слово! — наука снова забрала себе.
Где же остаётся искать свободы и спасения атеисту, напрочь потерявшемуся в лесу? Если у человека больше нет сущности, значит, он свободен быть тем, кем захочет. Экзистенциализм Сартра, Симоны де Бовуар и Фромма будто протягивает руку помощи потерянному, погрязшему в ритуалах, невротичному обывателю середины прошлого века. Мы в праве вершить свою судьбу, и за это стоит благодарить мир без бога, мир, где наше существование предшествует нашей сущности. Если человек понимал, что своей рукой он убил бога и оказался на краю бездны, он порывался открыть рот, чтобы заговорить с ней. Но его внезапно поражала мысль в духе Сартра: «Ты не виноват в том, что у тебя нет природы, заведомо определяющей цель твоей жизни, что тебя заставили существовать, но тебе не обязательно покидать этот чужой мир, ведь ты можешь им владеть».
Возможно, иллюзии, которые мы переживаем, овладевают человечеством. Возможно, их нужно взять под контроль. Симулировать ценность жизни, потребления, симулировать счастье — это навязчивое правило. Быть кем-то не значит иметь что-то. Хайдеггер, Фрейд, даже Сартр хотели показать, что наши иллюзии — рабочий материал, которому нужна новая форма. Именно из-за этого появляется абстрактное искусство, как бессознательное эпохи умирающего модерна. Структурализм и концептуализм с тех пор всегда шли рука об руку под лозунгом: «Создай себя!» Игра контекстов, в которых предстают иллюзии жизни, и мистика форм, в которых человек эти иллюзии запирает.
Pro et contra
Закостеневшие правила философствования — стремление к истине, моральным законам, всеобщей благодати — сменились в этом философском лагере созерцательной, поэтичной вольностью мысли, а абстрактными остались исключительно методы. Но по ту сторону, о чём мы поговорим в следующий раз, оказались математически точные аргументы, прагматические подходы, в которых не было ни грамма образности.
Так что завершить эту эпопею можно коллапсом: образовались замкнутые лакуны философии, говорящие на своем особенном языке, использующие свой особенный метод. (Пирс — позитивист и прагматик — это чувствовал, когда описывал мир науки, как длинный коридор с комнатами, где в замкнутом пространстве вели свой разговор учёные, а философ ходил из одной комнаты в другую, пытаясь соединить всё, что он слышал). Хорошо ли это? Развивать свою особенную область, совершать в ней прорывы — это безусловно полезно. Но путей так много, что философу не стоит зацикливаться на одном, как учёным.
Философ современности — мастер интерпретаций и различений, обобщений и конкретизаций. Он не должен останавливать критику, останавливаться перед цинизмом, ведь, в конечном счёте, ему тоже придётся предстать перед судом бытия и разочароваться в нём. Зал будет полон свидетелями, прокурорами, подсудимыми и жертвами, но судей в нём не будет… только стенографисты и любопытные сплетники.
Роман Ливаров






