Заснула на стуле в аэропорту, слушая что-то. Сработал будильник. Было красивое событие. Когда я пыталась пройти сквозь металлическую рамку, она запищала. Что случилось, спросили, снимите крабик для волос, снимите серёжки. Я сняла серьги — большие серебряные кольца — они всегда казались мне пошлыми, — без понятия, почему я их носила. Работник аэропорта положил их в ладонь. У него грубая землистая большая рука, рука человека, которому трудно. Красиво, конечно, — тонкие серёжки в руке. Он сказал, я подержу. Я сказала, спасибо, и прошла в рамку.
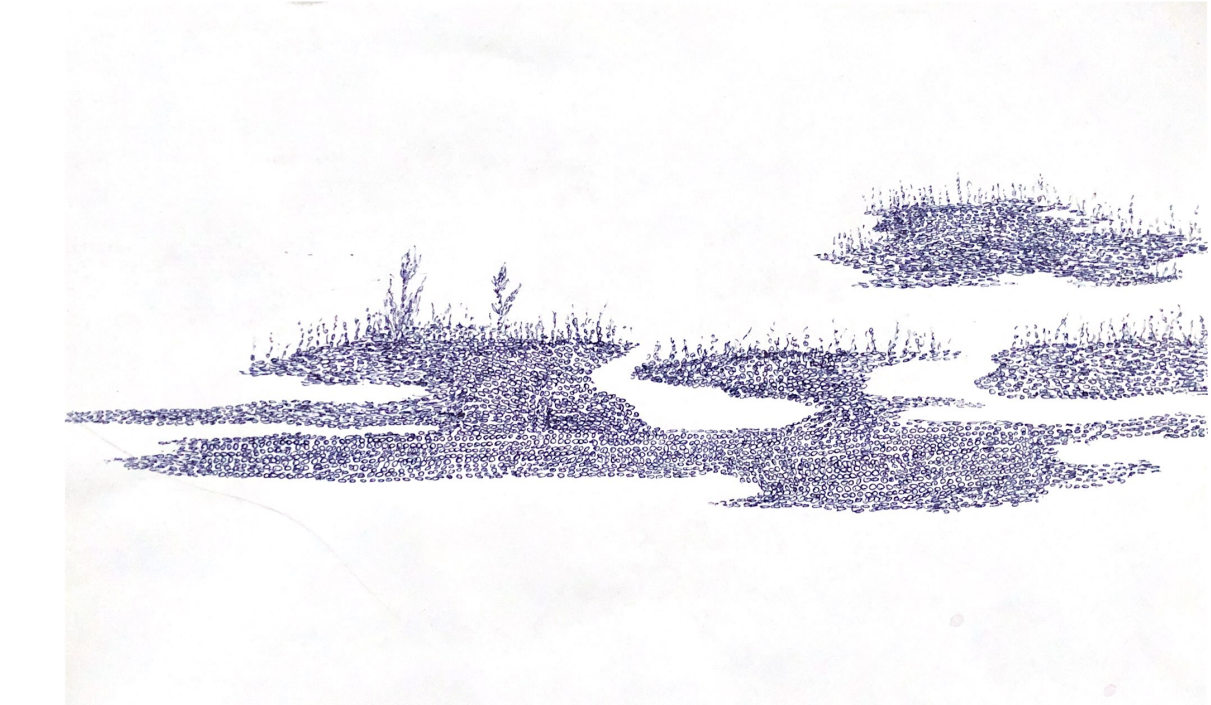
рисунок автора
Вспомнила, что в университете на первом курсе у нас с ребятами была игра в тонкие ощущения: нужно было искать вещи, застывшие в странных позах, готовые обрушиться, — вещи на краю, вещи между двух событий. Мы смеялись сами над собой, понимая уровень собственной экзальтированности, но тогда было хорошо и свободно в шутке и в правде. Было понятно, что красивое правда красиво, что оно остаётся красивым, даже если ты смеёшься, — смеёшься ты, чтобы от него защититься, но красивое видишь непредвзято, любовно. Оно проникает быстро, вы с ним в равных отношениях.
Я проходила сквозь рамку и смотрела на эту руку с серёжками, и сначала было просто красиво, даже как-то почти скучно красиво, а потом я засмеялась. Но засмеялась я не только над собой и над тем, из какого пережжённого сахара я сделана, но и от страха перед ней — перед тонкостью всех вещей, людей и событий, перед тем, что все люди, все их эмоции — ледяная кромка, под ними километры воды. У меня не получается воспринять мир в соответствии с моей мечтой о его восприятии.
Я не могу разнежиться сейчас перед этой грязной рукой с комьями земли под ногтями — я не свободна в своём восприятии. Непосредственные дети бегали бы словами, любили бы ими, ненавидели бы речью, — я слышу голоса в голове, они останавливают меня, они делают меня немой. Я не знаю, как мне писать про всё это. Мне не хочется воспринимать эту руку с серёжками, как красивую, я чувствую узурпирующую силу собственной карикатурной линзы.
Иногда всё кажется жутким, мир кажется очень тесным. Это неправда. Так кажется тем, кто лишился непосредственного восприятия, начал уставать каждый раз заново складывать пазл.
Я не знаю, кем мне быть. Хочется быть в углу мира кем-то, кто нужен, чтобы мы там тихо любили друг друга, защищали и пытались найти важное среди временного и агрессивного.
Снились сны про то, как забирают мою жизнь, как все придуманные мной образы уносят, как мама становится мамой подруги. Я легко могу победить это чувство в философском споре с самой собой, но не могу победить буквально. Я не понимаю, откуда этот страх, почему страшно остаться без всего придуманного мной, прожитого мной, — это же вроде бы так и должно происходить. Почему я не могу отдать другим детям свою маму? Какое-то безумие — родиться одним сознанием в одном теле и до бесконечности вламываться в густую материю, в густую мысль других, — как гвоздём по стеклу.
Мама говорит, что я говорю глупости, когда спрашиваю, хотела бы она быть мамой кому-то другому. Ищу попытки стать кем-то в отдалении от того, какой я стала. Кажется, что тем, кто я есть, становится кто-то ещё. Ищу курсы того, что я уже не успею: шитье, психология, столярное дело, — всё это я уже не успею прожить, понять всецело. Самое худшее, думаю, что это будет ложь. Во всех играх с детства люблю проигрывать, не люблю соревноваться.
В Москве было трудно. Я очень старалась, но было совсем негде думать и быть, — чувствовала бескрайний камень и себя, барахтающуюся, изображающую жизнь в самом его сердце. Я приехала в Иркутск, и стало так легко, появилось много идей и сил, хотя тут тоже совсем нет физического места. Поняла, что, видимо, мне было нехорошо просто от того, что я прихожу в место, где живу, — и темно, в окне темно, в доме все пыльное, тяжело, такое чувство, что я у края тёмной полусказочной полусерьёзной норы, — в этом огромный магический потенциал, но страшно с ним наедине. Я приходила и стояла в центре комнаты. Я стояла так по много часов и не могла пойти в сторону или сесть. Я стояла так, а потом ложилась спать.
Со всем в мире наедине страшно — это пора понять и что-то с этим делать. Есть разные способы не чувствовать себя со всем наедине. Обычно потеря или несколько потерь мешают эти способы испробовать, но нужна сила, чтобы начать. Дома хорошо: я не чувствую боли совсем, чувствую радость и любовь, чувствую, как у меня много сил, плачу, когда пишу эти строки, не знаю, почему, видимо от того, как это просто. Но жить так нельзя, поэтому скоро поеду обратно.
В Иркутске произошло несколько красивых историй, каждую из которых я не могу себе позволить описать, — это кажется предательством по отношению к ним. Это большой вопрос: как не чувствовать, что ты режешь мягкую реальность, когда пишешь о ней. Я думаю, я пока неумелый дирижёр вещей, мне стыдно от цитирований, и всё ещё слишком много этических вопросов гнездятся внутри и мешают осуществить эстетический перевод. Эта дневниковая простая запись, наверное, об этом. И о серёжках в руке, что являются прямым выражением всего, что я написала выше.
Анастасия Елизарьева






