Дети, чья кожа тонка, как зрение, дети, что прорезаются фонарями насквозь, что напоминают собой крылья насекомых или оттянутое ухо, срывают простыни с верёвок. Дети с самодельными факелами вдыхают и выдыхают запахи, запахи, которые пока ярче слов, всё пока ярче слов, вещи вокруг ещё не достали детей из их панциря, ещё не провели их друг другу, они счастливы, потому что они не знают, кто они, они не знают на что они способны. Дети бывают опасные от их радости, но самое большое зло, самое большое отвержение, на которое способен ребёнок, природно и спяще, ко взрослому возрасту детская обида застывает на дне сердца, она становится, как если бы тебя ужалила крапива когда-то давно холодным летом, когда ты скатился в кювет, и был так безразлично одинок, тебя ужалила крапива, и ты обозвал её, как обзывает ребёнок, но забыл. Тем же стала и детская обида, через время она стала такой, будто тебя обидело что-то неодушевлённое, но во взрослом возрасте она длится долго, она не растворится, если не учиться милосердию. Обида забывается, но остаются запахи, цвета, голоса, стуки, ощущения, странные необъяснимые вещи, красивые красные цветы, папа и холод, холод, все вещи покрыты зимой, ощущения больше, чем ты можешь влить в себя, они тоньше слов, реже слов, высоко, как ты высоко, подними меня, хочется стать выше, дети понимают, что другим бывает больно слишком поздно, ловят ужей, червяков, муравьев, отрывают, пришивают, гладят, кошка, бегут за кошкой, бегут за кошкой, кажется, можно расплакаться от её красоты, от того, как шерсть ей подсвечивает фонарь и каким солнцем эта кошка бежит. Бабушка говорит им, смотри, какие кошки умные.
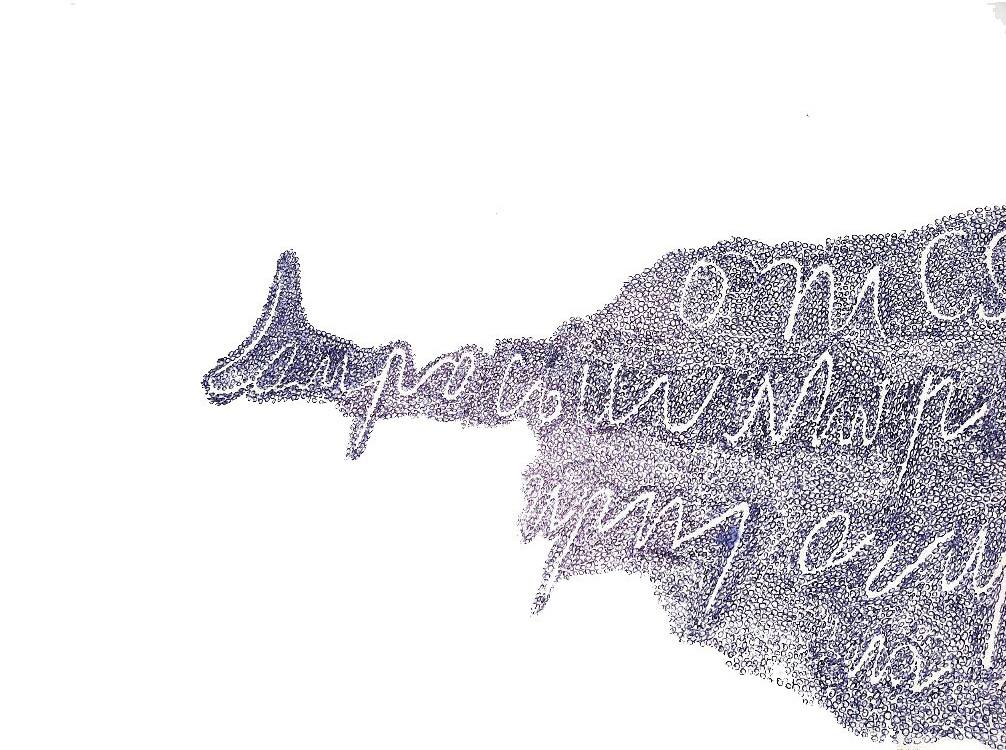
рисунки авторские
Дети рвут простыни с верёвок, как листья с деревьев. Бельё очень белое, но фонарь делает его почти кровавым. Дети посланы взрослыми, чтобы найти среди простыней простыни свой семьи. Для этого по шву у простыней вышиты имена их родителей, сестёр или братьев. Дети смотрят иначе: они не видят имени, но видят, как из имени выходит длинная волнообразная рука их матери, медленная или быстрая, тонкая или толстая, робкая или такая, чтобы перерубит доску пополам, и дети смотрят иначе, поэтому они видят, как из каждого имени выходит длинная волнообразная рука, и они не понимают само имя, как не понимали бы они, что имеет в виду рисунок коры дерева, но они видят руку, вытянутую из слова: особый почерк, особую дрожь, которые и выдают их имена из ряда других. И если бы на простынях было написано что-то смертельно важное, что-то вроде: спаси себя, спаси себя, спаси себя и только себя, они увидели бы только почерк, почерк отца, матери или чужака, символы растворяются в ощущении от них. И они, эти дети, подсвечивая самодельными факелами простыни, берут именно свою, а потом обняв её по-странному, по-человечески, собираются в кучу, чтобы ещё чуть-чуть молча постоять летом.
Римма, это тоже ребёнок, Римма тоже ищет своё имя или имена своих родных, но видит только чужие, не поддающиеся расшифровке руки, выходящие из размытых иероглифов и, как пластилин, долго лежащий на солнце, тающие к концу, к локтю, падающие вниз. Римма не находит, нет света понимания, продолжение руки матери свернуто в беспамятство. Она делает вид, что ищет, но ни в одной букве нет руки. Римма слышит лай собак. Ни одно слово среди этих длинных и коротких, нервных и робких, решительных, чаще решительных, это же родители, слов не является продолжением тёплой руки, которую она держит в памяти, которую она понимает. Римма ничего не понимает здесь.

Дети срывают простыни с верёвок, пока не видят мужчину, который светит фонарём на дерево. Они все вместе смотрят на него, застывшие, как статуи. Им ещё не нужно снимать кожу с каждого дня, чтобы увидеть вещи такими, какие они есть, они ещё видят непосредственные кости вещей, поэтому дети и смотрят на мужчину, который светит фонарём на дерево: он вдруг их друг, друг от того, что он здесь, и им интересно. Но посмотрел бы на этого мужчину кто-то другой, кто-то взрослее и хуже, он бы сделал вывод, что этот мужчина смертельно опасен. Но на него смотрят дети, и они бы сели на его плечи, которые не врастают во мрак, чтобы он качал их, чтобы он стал большим медведем, добрым и белым, и катал бы их на спине. Они видят дорогу его фонаря, но сам мужчина остается мрачной впадиной в пространстве. Видно листья. Они смотрят на него долго и сердобольно. На него — это на провал в пространстве, фонарь делает местность высококонтрастной, и мужчину чёрным.
Сердобольно и участливо они смотрят на него даже тогда, когда мужчина взрывает первую петарду. Он взрывает первую петарду, и дети видят, что под его глазами появляется серебро. Они наклоняют голову в такт взрыву и видят, как серебро растягивается по его щеке и плывет вниз к подбородку. Подбородок и щека — это упрощение, упрощение того, что мужчина это провал в пространстве. Вокруг него грубо вырезана листва. Иногда фонарь попадает на траву, и трава вздрагивает в темноте, как сердцебиение, а потом снова замирает. Мужчина плачет и взрывает петарды.
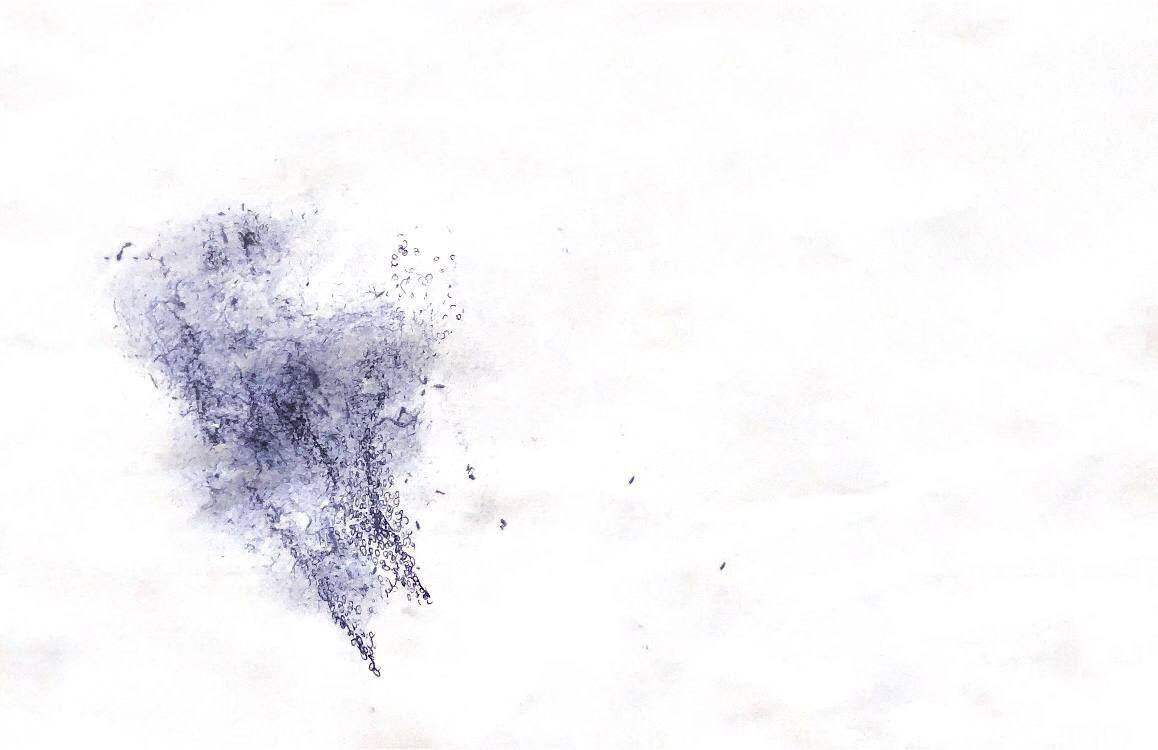
Дети не кричат, а только смотрят, опустив руки со смятыми простынями вниз, к траве.
Римма стоит без простыни. Её руки пусты и повёрнуты ладонями к небу. Она не нашла своего имени. Мужчина, точнее не мужчина, а темнота со слезами мужчины взрывает петарды, а Римма протягивает руки всё ближе. Чёрное лицо не выражает эмоций, лишь две полоски серебряных слёз, вырезанных твёрдой не родительской, а какой-то ещё рукой, горят на несколько метров вперёд.

Итак, мужчина взрывает петарды, его лицо имеет температуру — его лицо температуры улицы, температуры рук Риммы, в руках которой нет её простыни, девочка хотела бы отвести взгляд, но не может, а мужчина, мужчина взрывает петарды и плачет, горько плачет, и выглядит он так будто он подрывает сам себя, а не поляну вокруг, летят какие-то куски земли, всё время летят какие-то куски земли, девочка раскидывает руки в стороны, из окон выглядывают родители, родители смотрят на то, как их дети идут домой с простынями, а мужчина взрывает петарды, родители открывают рты и кричат разные буквы, эти буквы это отдельная мелодия, которую понимает каждый ребёнок, как понимал до этого руки, выходящие из имён, а маленькая девочка без простыни всё смотрит протянутыми ладонями то ли на мужчину, то ли в темноту, которую она уже знала и так, о которой она догадывалась всё остальное короткое время её жизни, из которой ей запомнились три вдоха, стул под дверью чужих ночью, бессонная ночь, таблетка, гематоген, вот она какая, эта штука, я так и знала, что это была она всё это время, это так думает девочка, пока человек, которого едва видно, и у которого только кайма глаз блестит серебряным светом, словно серебряная подводка, и плачет, потому что взрывает, и взрывает, потому что плачет, и взрывает по тому, по чему плачет, и девочке Римме так хотелось как-то показать этому мужчине, что она его понимает, что она видит то же самое, что он, что в этой картине, медленной, эта медленная картина, все думают, что быстрая, но она медленная, это медленная живопись, в этой картине всё, о чём она до этого только догадывалась, и так хотелось Римме дать мужчине какой-то знак понимания, подарить ему символ, буквы, жест, но Римма молчала, как каменная и только смотрела, всё это было, пока дети в своём стремительном, как лёгкое и грациозное животное, как антилопа или как журавль, времени бежали к своим родителям относить простыни, на которых вышиты были имена их семьи, как им легко в их времени по пропорциям и по движению, как журавль, как слабый лепесток журавля, думала Римма о них.
— Я боюсь услышать собственный голос, — сказал кто-то из детей, пока они бежали домой.
После этой фразы на несколько секунд застыла тишина. Дети удивленно переглянулись и побежали дальше. Взрывы и плач начали греметь с новой силой.
А всё это время у Риммы на груди висела маленькая деревянная рыбка, которую, как в костёр или, наоборот, как в фонтан, как чтобы вернуться, как чтобы никогда не возвращаться, как дар, Римма кинула человеку с серебряными полосами слёз, и он также одинаково безучастно плача на всё вокруг взорвал деревянную рыбу.
Анастасия Елизарьева






